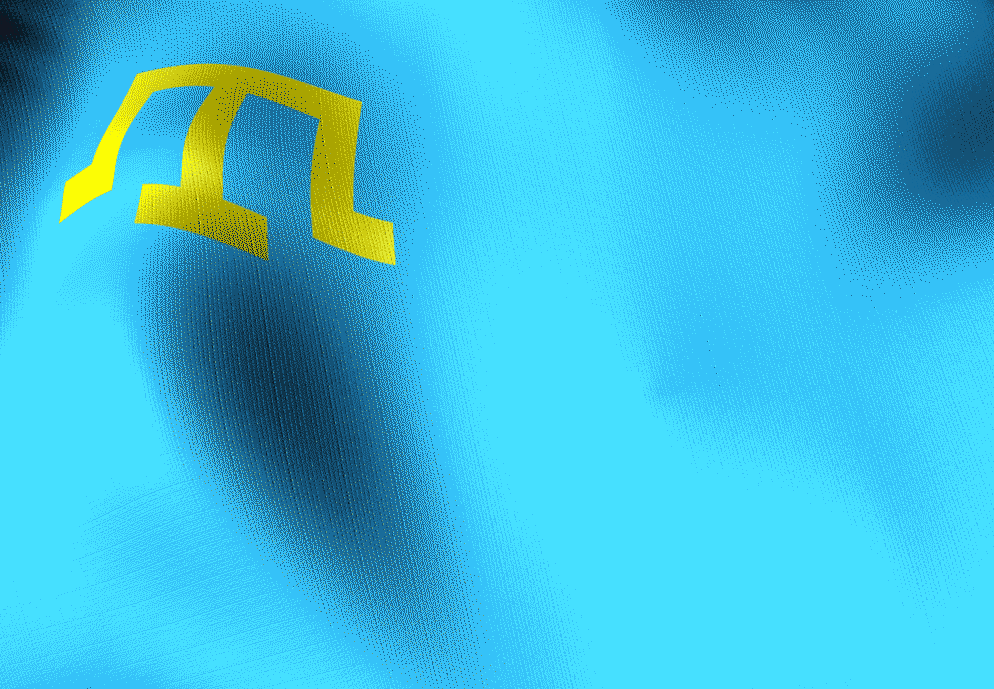В Монголию я отправлялась за уединением — характерное желание для моего годового цикла, а также со стремлением приглушить ощущения от слишком серьёзной вовлеченности в происходящее — война, мама и сестра в Донецке, ИЗОЛЯЦИЯ в изгнании. Страна с буддистским подходом и бесконечные пейзажи должны были дать мне возможность самоустраниться. На какое-то время. И это получилось.
В аэропорту имени Чингисхана прибывающих встречают непривычные запахи — овечьей шкуры, кислого молока и пота. Выйдя из здания, я оказываюсь в потоке холодного ветра и атмосфере застроек на окраинах бывших советских городов. Всё здесь временное, без мыслей о будущем. Позже узнаю, что будет возведён новый аэропорт, но, кажется, что ощущения гостей от этого места останутся такими же — зыбкость, недолговечность и сквозняк. Второе августа, +15 °C, Улан-батор.
Улан-батор — урбанизированная и современная столица, с бесконтрольным дорожным трафиком. Пытаясь перейти дорогу на зелёный свет, нужно рукой показать стоп-жест приближающимся машинам (всё ясно, иначе нас просто примут за типичных зомби, пытающихся пересечь улицу — давали мы собственное объяснение этому явлению). В городе полно многоэтажек, но кое-где, в частном секторе, можно обнаружить во дворе юрту. Вначале эти жилища кажутся нам в диковинку, а через несколько дней мы будем в них пить молочный чай с солью или айраг, и привычным жестом бросать рюкзаки в угол у лежанок.
Нарантул обозначается во всех путеводителях как черный рынок. Прекрасное по своей хаотичности и чудовищности запахов место — рядом с сушеным кислым творогом продаются носки, строительные материалы соседствуют с ювелирными рядами. Но за этой нелогичностью скрывается квест, когда в итоге ты получаешь больше, чем рассчитывал. Лотки с многочисленными мягкими змеями – символами мудрости, все составные части юрты, aple-колготки, футболки с изображением Чингисхана и тимберленды из Китая по бросовой цене.
На этом рынке я знакомлюсь с корейскими продуктами, и мне объясняют, что Южная Корея уже давно начала экономическую экспансию в Монголию. Это влияние мне кажется более радостным, чем заунывные мотивы о Халхин-Голе которые кое-где ещё прослеживаются в столице страны — мемориальный мозаичный комплекс Зайсан, фотографии у консульства РФ и серые типовые многоэтажки. Всё во мне возмущается, когда я узнаю, что СССР навязал кириллицу вместо красивых знаков монгольской письменности.
После одиннадцати все бары закрыты, но я ещё этого не знаю, и отправляюсь с испанским путешественником прогуляться. После долгих поисков мы попадаем в Underground —подпольное заведение с монгольским хип-хопом и доброжелательной публикой. Так я знакомлюсь с французским дизайнером, который рассказывает, что много лет назад переехал в Улан-Батор. Доискиваюсь причин и —не могу понять. Впрочем, французы — самые бесстрашные менятели своих судеб, которые мне встречались. Вернувшись в Киев, я тоскую по ритмам того закрытого клуба, и записываюсь на занятия по хип-хопу.
После посещения буддийского монастыря Гандантэгченлин, обнаруживаем расположенную по соседству небольшую галерею с традиционным живописью. Владелец хорошо говорит по-русски, и мы узнаем от него, что за влияние в Монголии сражаются Россия, Китай и Южная Корея. Чингисхан, в итоге, попеременно признается русским, китацем или корейцем. “За счет чего живет страна?” — наш собеседник смеется и разводит руками. Уголь. Золото. Кашемир. Туризм в расчет не берем — тут выживают только настойчивые и оптимистично настроенные путешественники, способные самостоятельно организовать себе маршрут.
Под лучами теплого, но не жаркого солнца, я иду на главную площадь — Сухэ-Батор, медленно перелистываю страницы книги, которую давно хотела прочесть — В дороге, — и наблюдаю за подростками, которые выписывают жизнерадостные пируэты на своих роликах. Время течет медленно и плавно. Я всматриваюсь в красивые открытые лица. Любуюсь разрезом глаз. Мне нравится это уединенное наблюдение.
Здесь двойственное ощущение дистанции: вот, вроде бы, — faraway, и идешь по улице, а лица хмуры, и мало кто хочет понять, что тебе нужно (после дней безуспешных попыток достучаться до людей в английской или русской манерах, я хожу с блокнотом, в который занесены слова на монгольском — магазин, автовокзал, обмен валют). И, вроде бы, so close, и вот ты едешь двенадцать часов в автобусе, и ощущаешь критическое уменьшение интимного пространства — на плоской поверхности мы все видны, и всем нужно в туалет. И это только поначалу какое-то смущение, а потом — привыкаешь. Привыкаешь к тому, что пустые бутылки летят прямиком в первозданную природу, а ты выглядишь абсолютным weirdo, запихивая окурки в спичечную коробку. После окончания поездки, автобус напоминает поле, уничтоженное полчищами саранчи. Или свалку, разброшенную стаями чаек. Здесь не чувствуется связь между человеком и средой, ответственность за то, что рядом и вокруг. Юрту можно разобрать, собрать и установить в новом месте за несколько часов. Сегодня здесь, завтра — за сотни километров. Кочевники. Я начинаю понимать, почему захватом и разграблением территории, на которой располагался фонд ИЗОЛЯЦИЯ, руководил боевик с прозвищем Монгол.
- фото: apl315
Мои представления и, в принципе, причина путешествия, обозначены статистической справкой: Монголия — страна с наименьшей плотностью населения в мире. Можно проехать сотни километров, и не встретить ни одного человека. Это почти правда. Оказавшись ранним тёмным утром в маленьком городе Дазалангдад, окружённом километрами пустыни, я ощущаю безвременье. Пустоту. Ветер. Некоторую романтическую обреченность места. Какие-то ассоциации с Твин-Пиксом и отголоскам американской потерянности на дороге. Керуак. Неприветливая девушке на ресепешне дает нам ключи от номера. С балкона открывается вид на городок — пустынное нечто, коробки пятиэтажных построек и заря в Гоби.
Опыт “я очень хочу быть путешественником в вашей стране, пожалуйста, возьмите эти необоснованно большие деньги, и увезите меня к дюнам и в Алтай”. Жесты и пара слов в моем волшебном блокноте помогают нам на микроскопической автостанции найти гида с машиной. Который не говорит по-английски. Как, впрочем, и по-русски. И мы снова куда-то едем: далеко и с остановками. Посмотреть на томных верблюдов. Отснять пейзажи. Подышать резкими и пряными степными запахами. Походить по мутным потокам небольшой речки в пустыне.
Дюны. Песок. Песок везде. В юрте, в вещах, в растрёпанных волосах. Днем я хожу за песчаные холмы. Позагорать нагишом и помедитировать. Неустойчивое тепло от солнца. Мыльные фотографии, многочисленные медали и изображения Будды в юрте хозяина этого места. Бесконечное звёздное небо. Сковывающий холод в ночной пустыне. Прерывистый сон. Днём все по-другому — горячо, но я все равно иду босиком, выше и выше по дюнам, увязая в разлетающемся песке.
На это состояние хорошо ложится национальная музыка — она звучит в дороге, в магазинах и на рынках. Торговка у подземного перехода поёт, уткнувшись в телефон. Водитель в автобусе подпевает песне, звучащей из его радио-приемника. Пастухи в степи иногда сбиваются с привычного темпа речи и начинают петь. В этом мюзикле длиною в жизнь чувствуется простор, наполненный солнцем, ветром и — немного- тоской о чём-то.
Даланзадгад — город, из которого не просто выбраться. Особенно, если ты ничего не планировал, и рассчитывал на более-менее постоянное автобусное сообщение. Еще сутки в этом городе. Повсеместное изображения динозавров. Их окаменелостей тут не счесть, если верить интернету.
- фото: apl315
Вечер в гостинице. Местное ТВ. Ничего не понятно, но новости отличаются неспешным ритмом. Похоже, здесь мало что происходит. Смотрим корейский сериал, перевёденный на монгольский. Потом — длительное вручение военных наград. Всем и много. / В одной из юрт, заброшенных на краю мира, мы тоже находим медали — целую кучу. Хозяин юрты гордится этими копеечныи поощрениями от государства, а мне становится как-то неловко. / Едим консервы. Глеб пьёт корейскую водку. Я открываю баночку местного пива. Утром выхожу на балкон, и вижу вновь прибывшего путешественника. И в нём узнаю себя. Он растерянно осматривается и щурится в пустынную даль. Да-да, чувак, тебе не показалось. Это самое затерянное место в мире, и никаких иллюзий. И пусть тебе будет от этой мысли так же хорошо, как мне, думаю я, и иду собирать вещи.
В Монголии я включаю режим медитации, определенный впоследствии благодаря Андрею Горохову как “втыкалово”. Под проливным дождём я исследую этот город, захожу в небольшие магазинчики, смотрю на свои следы на размытой дороге. Делаю снимки в минуты небесного просветления. В который раз радуюсь своему объективу-телевику, который может снимать крупным планом с большой дистанции, не смущая и не отвлекая людей от привычной жизни.
С русскоговорящим водителем Менхо мы едем к озеру Хух Нуур, которое находится в районе рождения Чингисхана. В этих горах и низинах все про этого героя далекого времени. За неимением лидеров сегодняшнего дня. Добравшись до озера, мы устанавливаем украинский флаг на юрте. Наши соседи-русские, недоумевают, но тихо. Мы на нейтральной территории. Если бы не юрты, мне бы казалось, что я в Карпатах. Сосны, холмы и тишина.
В поисках дороги, исчезнувшей после обильных ливней, идем в затерянный юрточный лагерь. Нас не пускают — во время обрядов шаманизма всем, кроме родственников, вход запрещён. Менхо рассказывает, что для ритуала собирают абсолютно всю семью, до минимальных степеней родства. В таких случаях положено бросать всё и прибывать в условленное место. Сам он в шаманские предсказания не верит, но, проезжая мимо обо — груды камней, которая считается порталом между небом и землёй, исправно подает сигнал — дань уважения.
В Улан-Батор мы возвращаемся, чтобы начать длительный перелёт в Киев. В любой парикмахерской здесь делают тату — это так просто, как подстричься, например. После посещения Музея изобразительного искусства имени Дзанабадзара, у меня нет сомнений — Соёмбо, символ, основанный на буддизме, а для меня еще и совершенный в своей концептуальной визуализации. Мне говорят, что только идиоты делают тату в непроверенных местах за несколько часов до вылета. А я хочу что-то взять с собой из этого путешествия. На память о сквозянках и затерянности в пространственно-временной матрице.