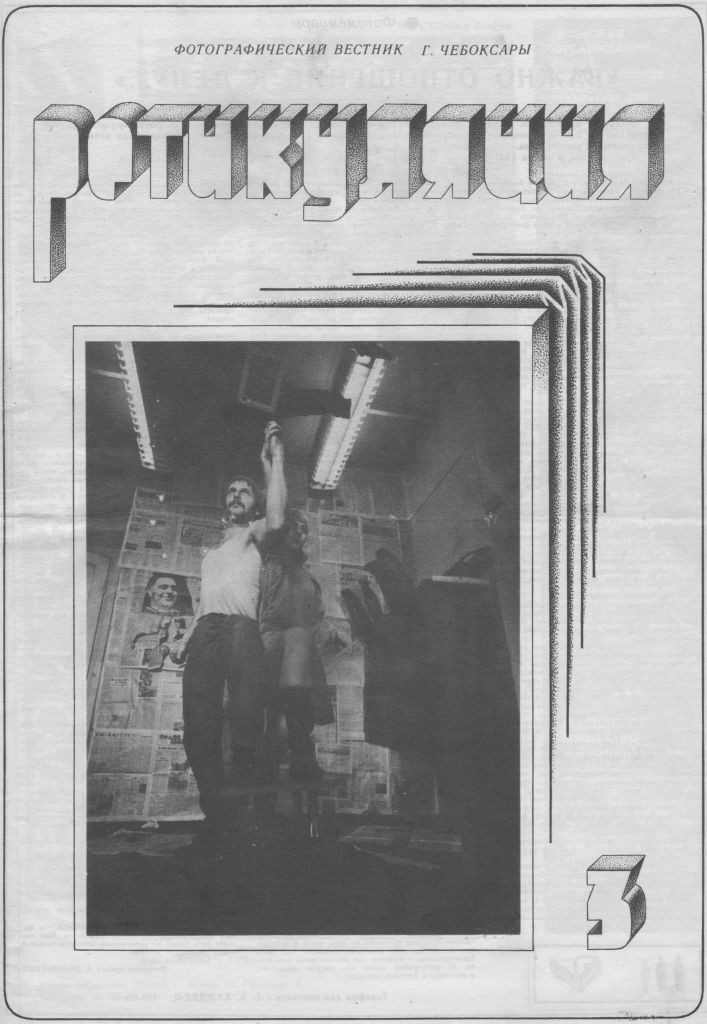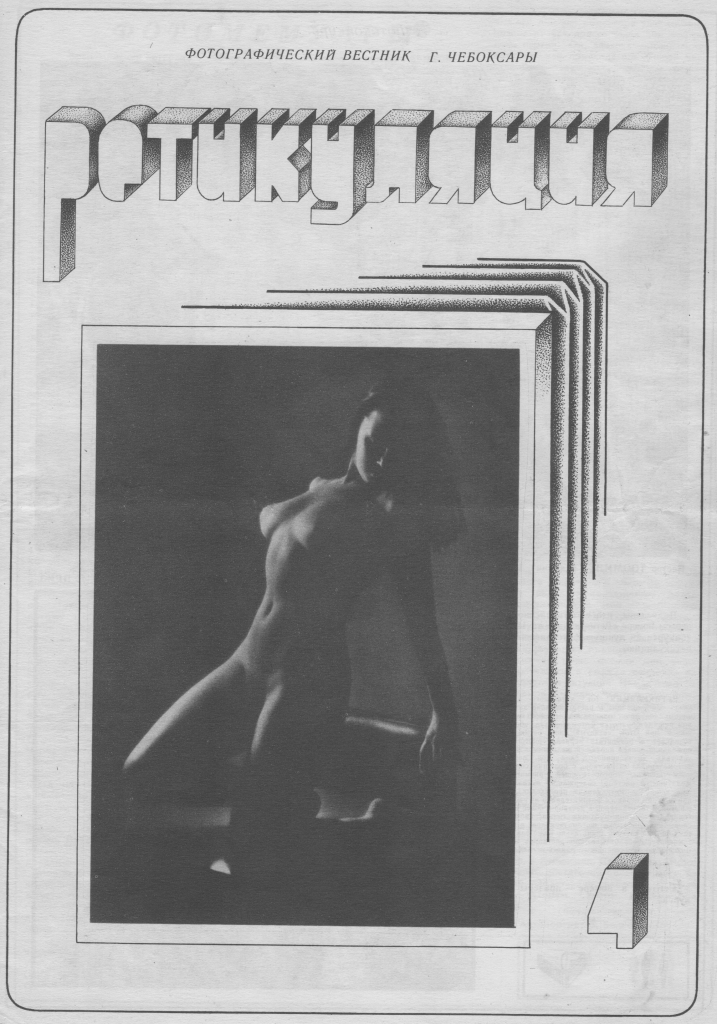В 1988 году на одной из московских кухонь состоялся разговор между двумя украинскими фотохудожниками — харьковским Борисом Михайловым (БМ), днепропетровским Александром Фельдманом (АФ) и журналистом из Москвы В.Прудниковым (ВП). Впервые текст этого разговора был опубликован в газете Ретикуляция.
IZIN получил копию разговора и возможность публикации данного текста.
Орфография и грамматика в данной статье сохранены согласно первоначальной публикации.
Началась беседа с рассуждений о рукописной книге Документальная фотография.
Б.М.: У нас такая фотография была, но она была в Литве. Мы все чувствовали, что литовская фотография прекрасная. И корни у неё есть, и все у неё есть… А дорваться до неё… как-то дорываешься, но не знаешь, в чем дело: и добраться вроде бы, и не получается. И то что-то не так, и это, и какие-то не те варианты все время получаются. Они оказываются все время впереди и как-то непонятно, как это все делается. До тех пор, пока не вышла эта Документальная фотография, и не началась, не двинулась какая-то еще культура. Культура двух направлений. С одной стороны… Документальность… домашней фотографии. Основа — лурик, раскрашенная фотография. Лурик, который я показывал, это основа. Любую можно взять домашнюю фотографию и там всегда будет шедевр, сильнее искусства любого журналиста. Любую фотографию, любую… Там есть что-то такое, что щемит душу. Вот этот момент, он является главным по отношению к тому, что есть в каждом месте. Нахождение каких-то тонких, своих вещей в документальной домашней фотографии, и потом уже придание этой фотографии формы, которая связывает с культурой.
С другой стороны, культуру дал Слюсарев. А еще раньше в Союзе — Спурис. Спурис ввел в эстетику линию. До этого главным в эстетике был рассказ, теперь линия становится более важной, чем рассказность…
В.П.: …повествование…
Б.М.: Да, повествование. Даже Кунчус, который с моей точки зрения — главный, кто открыл всю эту народность литовскую, своим вхождением мальчика в город, и потом праздниками. Праздниками он практически открыл новые возможности. Для кого он открыл? Для литовцев. А для нашего региона? Получается, что мы все время первые внешние формы заимствуем американские, европейские. А свои, которые, например, были связаны с Родченко, они были недосягаемы. Родченко был недосягаем, то есть для нас не было начала, откуда он идет. Этот путь был закрыт…
В.П.: С чьих работ сейчас что-то началось?
Б.М.: Спуриса. Спурис ввел линию. Слюсарев продолжал. А я нашел лурик. Как основу. Потом этот лурик, домашняя фотография, скрестилась с линией. Одновременно с этим начались поиски… правды. Потому что всякая фотография, существовавшая в это время, больше относилась к идее, чем к правде, или чего-то такого, что дальше отстояло от правды.
В.П.: Что такое правда?
Б.М.: Вопрос странный, конечно. Потому что вся информация создавала имидж советского человека. Но в общем такого, как он из себя, его там нет. Средний человек совсем другой, чем тот, который постоянно дается в журналах. И вот ощущение правды фактически отсутствовало, к нему нужно идти.
Что делал Слюсарев в своих первых работах? Он делал кухню. И нашел элемент. Надо было найти не максимальное достижение, а средний уровень жизни, найти какой-то видовой элемент среднего человека и найти средний уровень жизни. И вот он стал брать элементы кухни: вот эти веревочки: вот эти веревочки. Фотография уже была в квадрате. Появилась жесткость. Появилось городское, супрематическое пространство, новое, которое до сих пор не употреблялось. Если употреблялось у Пинхасова, но не в контексте бытовой сферы, а только в контексте красоты.
Вот и родилась фотография, которая меньше связана с культурой, а главным ее элементом стал технологический элемент и элемент среднего человека. Вот, в той книге – пошел главный ход. Вот в Бердянске – в квадрате рука, и муж вытанцовывает… Средний человек уже другой, но соединился не с рассказностью, а с линарностью – здесь линии больше.
В.П.: Если я Вас правильно понимаю, то журналистика пытается найти характерный жест… максимальное?
Б.М.: Максимальное, да. И это сразу – неправда.
В.П.: А вот линия, о которой Вы говорили, эта линия показывает процесс течения жизни …?
Б.М.: Нет. Слово «процесс» – это старое слово. Его употребляли, когда делали картину максимально красивой. Тогда образ был сильней реальности. Это была мечта, имидж. А сейчас получается противоположное. Но дало возможности раскручивать быт, на основе формальных вариаций. Началась линия там, потом тут же она стала пятном, тут же пятно стало работать со структурой… и началось усиление фотографии, которая получила национальную основу, местную, а не заимствованную. Фотография Тарновецкого, Савельева – это национальная фотография, максимальные ее вариации. Здесь и пространство наше, и дела наши.
В.П.: Борис, Вы пытались опубликовать свои соображения?
Б.М.: Нет, я только сейчас пришел к тому, что это может быть такая линия. А потом вот еще… Я не теоретик, я не могу точно сейчас доказывать. Можно попробовать опубликовать, но тут на тебя посыплется… Я представил себе такой процесс, он может теперь естественно развиваться, не боясь повторений американцев (показывает на изображение в книге). У нас таких изображений нет еще. Структурно нет. Сейчас они только появляются. Их больше исследует сейчас Савельев, исходя их русского материала.
В.П.: Я та понимаю, что Вы все это сформулировали для себя, чтобы лучше ориентироватся…
Б.М.: Да. Но если это будет сказано публично – это будет прекрасно?
В.П.: А сами авторы? Вы на эту тему с ними говорили?
Б.М.: Они согласны. Почему бы им не быть согласным, когда они получается родоначальниками.
В.П.: А если, допустим, их фотографии будут анализироваться как-то иначе?
Б.М.: Попробовать можно, но еще никто не делал анализа. Ни один человек.
В.П.: Дело в том, что такие попытки делались, но, к сожалению, их невозможно опубликовать.
Б.М.: Почему такое невозможно опубликовать о фотографии?
В.П.: Книжку Вартанова Фотография, документ и образ, например, Вы читали?
Б.М.: Но просто книжка такая большая. Все там образ, образ. Об образе идет речь.
В.П.: …идет речь о правде жизни, о правде образа…
Б.М.: Да, о правде может быть, о документальности… А здесь разрушение образа. Тех главных образом. Хотя, главный образ все равно существует…
А.Ф.: Не образ, наверное, а стереотип?
Б.М.: И образ тоже. И стереотип, и образ…
В.П.: Нам часто приходится слышать, особенно журналисты часто говорят, что мало правды в наших фотографиях. И в то же время они почему-то отвергают фотографии Слюсарева.
Б.М.: Потому что они их не понимают. Она дает максимально близкое ощущение нашей жизни.
В.П.: Говорят «Ну идет человек и снимает».
Б.М.: Это еще одно положение, которое я защищаю, хотя не совсем уверен в нем, но пока не вижу никакой альтернативы этому – идет человек и снимает. Вот я говорил, что советская фотография отличалась валерностью. Это значит – плавная линия, тональный переход. Гуманус как бы. Как бы все повторяет движение человеческое, тело человека. Мягкое, плоское, без углов… Без всего. Мягкость, мгякость, мягкость. Быльтерманца работа. Васильев. Там нет ничего жесткого.
В.П.: Что такое жесткое?
Б.М.: Вот – жесткий угол! Мы все в углах находимся. Однако этих углов в советской фотографии практически нет. Они сглажены, уменьшены. Вся фотография стала не жесткой – супрематической. Фотографическое сознание сейчас находится на уровне импрессионистов и передвижников. Бальтерманц – это передвижники, по форме своей.
В.П.: Вы проводите аналоги с живописью?
Б.М.: Да, фотография повторяет живописные элементы. Это идея Попандопуло, который говорил: сначала философ, потому живописец, потом фотограф. Философ дает идею, живописец отрабатывает композиционные варианты, а фотограф дает им жизнь.
И следующая вещь, которую я считаю главной, это конструктивизм. Возрождение Слюсаревым конструктивизма явилось главным в наше время. И обратно с этим идет деконструктивизм, который также ранее был элементом художественной деятельности.
Конструктивизм имеет большое человеческое начало, показывает, что человек может создать что-то. Эти темы как-бы заворачиваются сами на себя. Деконструктивизм – это Савельев, я и Тарновецкий. Савельев сказал: я снимаю этнографию, в которой будет как можно больше элементов. Эта фотографическая идея дала ему возможность снимать, не учитывая стереотипы. Если будешь снимать красоту известную, то постоянно будешь приходить к уже известным канонам.
В.П.: Вы не пытались получить критику на эту книгу, обсудить?
Б.М.: Конечно, я давал читать ее людям, которых я уважаю. И отчасти получил… В начале этой книги я написал, что она сделана для московской группы людей. Ознакомить с ней надо Прибалтику и показать Харькове. То есть эта книга должна, по идее, понравиться в Москве, а в Харькове и Прибалтике – не известно как. И получилось – она была непонятна совершенно в Прибалтике даже лучшими искусствоведами. Например, Андрешкявичус посмотрел ее, но не воспринял. А вот группа Кабакова, та сказала: да. Я с этой группой больше связан.
А.Ф.: А кто там пишет у них?
Б.М.: Там пишет Рпппопопрт. А от группы Эрмитаж – Бажанов, он много занетпо этому вопросу.
А.Ф.: Я читал полемику в журнале Художник, где Раппопорт полемизировал со своим коллегой. Раппопорт, в меньшей степени, чем его коллега, утверждает совершенно неприемлемую вещь. Он говорит о том (его коллега вообще утверждает это безапиляционно), что идеи находятся в произведении. Не в сознании человека, воспринимающего и пытающегося формулировать свои идеи словами, но в самом произведении, в котором нет сознания. Сами идеи, по мнению полемизирующих, каким-то образом вложены в произведение. Ведь тогда можно было бы создать словари. Толковые словари, переводческие, с языка, допустим, графики, живописи и т.д. на язык человеческий. И тогда недвусмысленно можно было бы рассказать: вот это сочетание линии и цвета, конкретное, несет в себе вот эту конкретную идею. Недвусмысленно, не прячась за беззащитное произведение и не высказываясь от его имени…
Б.М.: Все искусствоведы тысячу раз говорят, как Рембрант показывал свою идею людям.
А.Ф.: Что значит говорят? Доказывать нужно!
Б.М.: А как вообще доказать можно? Эти слова и есть то доказательство, которое убеждает нас…
А.Ф.: Убедить можно в чем угодно. По этому поводу существует религия, когда не нужно знать, а достаточно верить тому, что говорят. Мы говорим об объективных доказательствах, которые можно понимать только так, а не иначе. Но человеческий опыт показывает, что когда одну и ту же вещь смотрят разные люди, даже высокого уровня культуры…
Б.М.: и у них есть разброс…
А.Ф.: Не разброс, а совершенно противоположное, никогда не пересекающиеся суждения об одном и том же произведении.
Б.М.: Суждения… Суждение может быть действительно таким. Но информация, которую получаешь от искусства, совершенно одинакова. А вот в тебе эта информация вызовет разные суждения. Она, информация, тебя ударила энергетическим ударом, и ты ее уже по-разному даешь.
А.Ф.: О каких ударах идет речь? Произведение искусства никого не ударяет, оно себе преспокойно висит на стене. Это происходит внутри человека под влиянием его собственного переживания, это его собственный удар, удар по себе, выведение себя из равновесного состояния. В этом, нужно отметить, важнейшая сущность искусства, его необходимость для человека и отчасти и объяснение происхождения искусства, такого бесполезного в заботах человеческих о хлебе насущном. Но давайте упростим.
Информацию мы последовательно отдельными элементами, «считываем» с произведения. Человек так устроен, что он не может всю кучу информации принять целиком. Но и каждый элемент может беспредельно дробиться на элементы. Тогда бы пустяковый чертеж человек расчленил на такое множество элементов, что не каждый элемент потратил бы бесконечное количество времени. Значит, сам человек ограничивает элементы по величине. Как? Наверное, в зависимости от главного, что ему представляется таковым. Но вот здесь и начинается уже тот важный момент, что уже на интуитивном уровне человек занимается отбором знающих элементов. Значащих только для него, индивидуально, на основании его личного опыта. А совпадения обусловлены тем, что мы взаимодействуем с людьми, их опытом.
Но из произведения ничего не идет. Это важно подчеркнуть. Само произведение ничего не излучает – и это тоже момент личного отбора, хотя отбора такого произведения, которое, как нам кажется, «излучает», которое мы оцениваем как значащее для нас. Так как это происходит на интуитивном уровне, то уже сознательно мы не отбираем, а как бы непроизвольно чувствуем его нужность для своей духовности.
Б.М.: Но как же нет, там же закодировано художником чувство…
А.Ф.: Хорошо, тогда объясни мне, что такое ход чувства. Любовь это чувство? Тогда напишите мне код любви…
Б.М.: Не знаю… Это слова. Это начинается казуистика. Мы начинаем говорить о таких вещах, о которых вообще невозможно рассказывать. Вы можете показать переход количества в качество? Можете показать где куча, а где не куча?
А.Ф.: Куча или не куча— это не переход количества в качество, сам человек для себя придумывает что ему называть кучей. А природе, как говорится, не холодно и не жарко от того, называл он кучей один или сто кирпичей. Хоть сто, хоть один — кирпичи эти в природе будут подвержены равным условиям существования. Это человеку важно для удобства общения, для взаимопонятности употребление слов, которых в природе нет. Можно какое-то количество предметов считать кучей, а меньшее — не считать. Такая точно договоренность возникла и в искусствоведении. Другое дело — для чьего удобства? Мы видим в жизни, кому удобно извлекать идеи из произведений, что бы потом принимать меры…
Ну а переход количества в качество. Например, когда нагнетают газ в резервуар до того момента, что количество этого газа будет так велико, создастся такое давление, что резервуар не выдерживает и разрывается. Это и есть переход. И таких состояний бесчисленное множество, но это уже банальности.
Б.М.: Скачек не в том, что его порвало. Качество, уже другое, но переходя этого уже никто не узнает. Я, например, не знаю. Для меня вот этот переход такое же явление, как закодированность явления. Это не мой вопрос. Мне вообще ближе так, как я это понимаю, что там закодированны мои чувства.
А.Ф.: Я понимаю то, о чем Вы говорите.
Б.М.: А это неправильно?
А.Ф.: Конечно, нет.
Б.М.: А как?
А.Ф.: Там нет закодированных чувств.
Б.М.: А что? Ну что там вообще есть?
А.Ф.: Рамка, если это холст, есть краска, определённого химического, физического состава, есть толщина красочного слоя…
Б.М.: А здесь что? (Показывает на репродукцию в фотокниге).
А.Ф.: Здесь тоже краска на бумаге.
Б.М.: А что на меня действует? Во здесь действует, а здесь нет.
А.Ф.: Она не действует на Вас, это Вы на себя действуете. Посадите сюда другого человека, не имеющего опыта общения с художественными произведениями, и что, что Вам, или как Вы говорите, действует на Вас, на этого человека «действовать» не будет. А почему?
Б.М.: Да у него и кода нет, нет никакой связи, нет каналов связи. Без информатики здесь никакого и разговора нет.
А.Ф.: Вот Вы сами и говорите, что в человеке дело.
Б.М.: Нет. В человеке и в картинке.
А.Ф.: Поймите меня правильно. Та система, которую Вы предлагаете, позволяет вообще объяснять все что угодно, любыми словами и как угодно.
Б.М.: Так и есть! Много объясняется, а Вы предлагаете бога. Я Вам точно говорю где, что. Это переход моих чувств в материал, в картину.
A.Ф.: Ну ладно, картина постепенно истлеет. Она останется картиной? И куда донесется канал связи?
Б.М.: Он прервался, его больше нет и картины нет.
A.Ф.: Но Вы утверждаете, что канал связи — это нечто материальное, он не может исчезнуть бесследно. Куда он исчез?
Б.М.: Мы вообще касаемся вопроса, который никто не мог решить. Отношение материального и идеального. Никто его не решил вообще.
A.Ф.: Но вопрос имеет решение.
Б.М.: Ну да! Нет! Я сам все больше и больше вижу, что идея возникает раньше, чем материя. Я думаю, у Вас нет теории, как это может быть. Материальная теория многого не объясняет, я теперь это понимаю…
А.Ф.: А вы изучали «материальную теорию»?
Б.М.: Все изучали. Мы сейчас только её и знаем.
А.Ф.: Мы не знаем ее. У нас марксизм или, как Вы говорите, «материальную теорию» не изучали. Изучали другое…
Б.М.: Кто хотел тот изучал. Мы — фотографы — продукты общества, а не продукты культуры. Это уже издержки, когда сам читаешь. У нас в Харькове есть один человек, который придумал красивую теорию… Меня она устроила. Философская теория.
А.Ф.: Я внимательно Вас слушал, мне было интересно и важно то, о чем Вы говорили. Но, честно Вам скажу, мне кажется слабым местом в Ваших рассуждениях то, что Вы объясняете реальность нашей жизни, реальность восприятия искусства, реальность фотографии как нечто сверхъестественное. Вы употребляете термины: красота, образ, идея и нередко в разных и даже противоположных смыслах. Но то, что вы утверждаете насчет того, что заложено в фотографиях, это мне очень близко. Мне очень нравится Ваш исторический подход.
Б.М.: А где я ошибся?
А.Ф.: Мне кажется, что мы, разговаривая на одном языке, не понимаем друг друга.
Б.М.: Мне кажется, что дело в другом. Просто вы знаете какие-то свои больные точки, а я их не затрагивал. Я тоже, когда другого слушаю, начинаю на себя переводить. Мне кажется в моем изложении все — механически, там нет вообще идеального. А про образ когда я говорил — в отношении к деконструктивизму. Если мы возьмем «Советское фото» — увидим, через что оно влияет…
А.Ф.: Но мы говорим о художественной фотографии.
Б.М.: Ну почему же, разве ее там не было? Там были красивые картинки.
А:Ф.: Там в принципе не было художественной фотографии. К тому же я не считаю, что красивое и красивость — это одно и то же, а там всегда отдавали предпочтение красивостям. Там их можно много увидеть порой, но красоты не почувствовать.
Б.М.: Этого я не знаю.
А.Ф.: Есть такая наука — социология искусства. Она занимается таким странным делом, которое ее приводит к объективным результатам, то есть независящим от того, что я считаю, что он считает. Смотрят люди один и тот же фильм. Много людей. И потом начинается опрос. И эти люди начинают потом рассказывать, что они видели, что чувствовали, как переживали. А потому уже начинают говорить о том, что нужно: закрывать фильм или показывать. И оказывается, что есть определенные общие мотивы рассуждений, какие-то общественные и в чем-то общечеловеческие, а есть еще и узкосоциальные мотивы, которые не менее сильны, а в некоторых случаях оказываются и более сильными, чем общечеловеческие. Вот то, что я назвал красивостью, — это то, что присуще для определенных социальных групп, а не является для всех общим.
Известен страшный опыт средневековья, который провел царь Акбар. Он запер группу юношей, только родившихся, в башне и лишил их общения. Когда по прошествии шестнадцати лет башню открыли, то оказалось, что людей нет. В башне были животные. Он хотел узнать, на каком первоязыке разговаривают люди — но они вообще не разговаривали. Оказывается, что хотя красоту ощущают все люди, осознание зависит от того, к какому социальному слою человек относится.
С красивостью дело обстоит иначе. Каждая социальная группа имеет свои представления о красоте, вкладывая в это свое понимание. Вот это и есть красивость. Наука как раз и показывает, что, выдернув какого-то человека из толпы и расспросив его о произведении искусства, мы не сможем выяснить, что он чувствовал: красоту или красивость. Я считаю, что нельзя вообще подходить с мерками к искусству. Ни с какими. Оно не имеет измерений. Нет специальных килограммов, нет метров для искусства.
Б.М.: Такое мнение довольно распространенное. Оно постоянное и главное — здесь у нас. Пока оно будет существовать, то не о чем вообще говорить. И вообще не нужно тогда исккусствоведения и всего такого тоже. И пускай будут и плохое и хорошее связываться вместе. Если нет иерархии, если нет измерения, то вообще не о чем говорить. В принципе, нужно знать свое место в искусстве. Без этого никакой критики.
А.Ф.: Нужно ли художнику иметь весы для взвешивания?
Б.М.: Ему часто — не нужно, а часто и нужно. Если он просит — подскажи ему. Это и есть разговор об искусстве, мерка. Ты должен знать где находишься. Но это связано с иерархией в искусстве.
А.Ф.: Это не мерка — это экспертная оценка. Это совсем другое.
Б.М.: Что же такое мерка?
А.Ф.: Мерка — это попытка объективного измерения. А экспертная оценка — чисто субъективное дело.
Б.М.: Мне не нужно субъективного, мне нужно ближе к объективному…
А.Ф.: Но как это можно сделать, как можно вот мои слова о произведении измерить на предмет объективности?
Б.М.: Я хочу померять, например, конструктивизм и определить, какой конструктивизм глубже. Потому что сейчас есть другие, есть третьи. А кто из них кто? Никто не знает. Пока мы будем находиться в таком состоянии, что никого мерять нельзя, то и будет нам, что мы ничего не будем знать. Мы конечно не много продвинемся на своем пути, не много. Это очень сложный вопрос. И так вот не меряя конструктивистов, мы можем к ним отнести уже не конструктивистов. И тогда он будет обижен. Хотя он не конструктивизм, а новое направление.
А.Ф.: Не измеряйте его и он не будет обижен.
Б.М.: Нужна иерархия ценностей. Дерьма уже очень много.
А.Ф.: От того, что вы его намеряете, его станет меньше?
Б.М.: Оно узнает… Нет, нужны ценности!
А.Ф.: Да у нас столько меряльщиков было… «Товарищи, вы занимаетесь не искусством».
Б.М.: Оставим пока политику.
А.Ф.: Но они делали то, о чем Вы сейчас говорите и что Вы хотите делать сами. Найдутся люди, которые под лозунгом «художественного» будут уничтожать.
Б.М.: Мы говорим о ценности разных вещей. И главное, почему у художников плохо, а у фотографов еще хуже потому, что неизвестно, кто же ценней? Если бы знали — этот человек ценный, стоимость ему такая, мы б с Западом соединились. Это обязательное явление, без него не обойтись.
А.Ф.: А кто будет назначать цену?
Б.М.: Наша культура войдет туда и известна будет цена. Сейчас уже так делается. Там каждого продают по определенной цене. На нашем рынке нет цены.
А.Ф.: А что же было тогда, когда не было рынка со шкалой цен в долларах, рублях и других валютах?
Б.М.: Вот и не было ничего — цены не было.
А.Ф.: А раньше, в истории?
Б.М.: Тоже была цена на всех фотографов-художников.
А.Ф.: А до фотографии еще? В древности?
Б.М.: Не было потребности — не было художников.
А.Ф.: Страшная теория.
Б.М.: Страшно — не страшно, а и здесь, сейчас такое есть. Причем тут Ваша теория, когда это все есть сейчас. Оно и будет.
А.Ф.: Да нет. Спаси меня господь, я бы не жил тогда…
Б.М.: Как не жить, но разная стоимость работ — она же постоянно есть.
А.Ф.: Она же изменяется.
Б.М.: Нет, она почти не колеблется.
А.Ф.: Вы рассуждаете так, как будто святым духом она назначается.
Б.М.: Сообществом всех людей, никакими конкретными людьми. Рынок выработает нужную цену.
А.Ф.: Рынок сам ничего не выработает — он не человек. Первый раз кто-то говорит цену.
Б.М.: Мы вдвоем соглашаемся. Я сказал рубль, ты — два, и баста! Вот мы и создали цену.
А.Ф.: А что же сказать о тех, кому не сказали ни рубль, ни два?
Б.М.: Значит, ничего они не стоят.
А.Ф.: Но таких художников много было, они умерли и только после их смерти их картины «приобрели» место в иерархии ценностей, а по Вашему — цен.
Б.М.: Да, сразу могут кого-то не заметить, но потом его найдут, заберут.
А.Ф.: Тогда выходит , что Вам, живущему ныне, должно быть достаточно безразлично — какое-там будет когда-то время? Зачем же вы тогда боретесь за назначение цены?
Б.М.: Зачем?! Это вообще пустые разговоры, зачем я борюсь за назначение цены. Она все равно будет.
А.Ф.: Но это уже не цена будет, это уже не рынок будет… Искусствометрия — это и есть попытка сведения всего искусства к политике. Потому что всегда найдется человек, которому это будет выгодно из-за какой-то цели.
Б.М.: Ну тогда, значит, ничего и не будет. Мы же всегда имели безоценочное…
А.Ф.: Нас оценивали! Еще как оценивали.
Б.М.: Нас оценивали неправильно. Литературно оценивали.
А.Ф.: Почему же, когда я пробивал свою персональную выставку, то меня оценивали в райкоме, горкоме партии. Оценивали, назначали мне цену! Мусорную.
(запись обрывается)